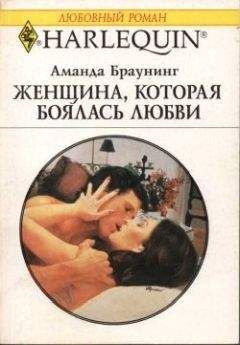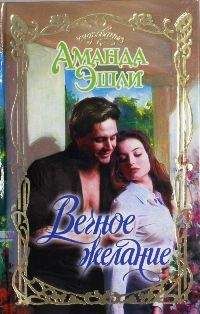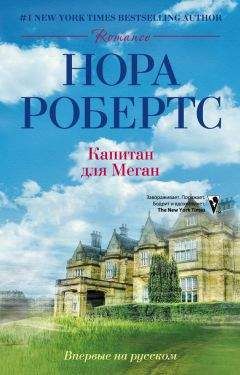Михаил Яснов - Путешествие в чудетство
Корабли приходили усталые от далёких плаваний, задымлённые, обветренные. Широкая труба хрипло дышала. Краска на бортах облупилась и потускнела. Ракушки и водоросли облепляли снаружи днище корабля.
Ещё бы! Ведь ему приходилось иметь дело с волнами, бурями, ураганами.
В нашем порту корабли приводили себя в порядок: их чистили, мыли, ремонтировали, покрывали свежей краской.
Уходя снова в море, корабли выглядели отлично. И ласточки, сидя на плече Пушкина, провожали их глазами до самого горизонта».
Вот с этим одесским горизонтом в глазах хорошо бы читать и стихи Веры Инбер. Иногда в них возникает удивительное лирическое чувство, свойственное высоким образцам русской поэтической классики:
Желтее листья. Дни короче
(К шести часам уже темно),
И так свежи сырые ночи,
Что надо закрывать окно.
У школьников длинней уроки,
Дожди плывут косой стеной,
Лишь иногда на солнцепёке
Ещё уютно, как весной.
Готовят впрок хозяйки рьяно
Грибы и огурцы свои,
И яблоки свежо-румяны,
Как щёки милые твои.
Обратим внимание на две последние строки: банальному «щёки румяны, как яблоки» противостоит перевёртыш — «яблоки румяны (да ещё свежо!), как щёки». И образ сразу обретает новизну и, действительно, свежесть. Вспоминаю выражение одного моего юного читателя — однажды он сказал: «Сухие листья шуршат, как чипсы». А ведь по всем «правилам жизни» должен был сказать: «Чипсы шуршат, как сухие листья». Но сегодня для него первичной оказывается вторичность.
В стихах Веры Инбер всё ещё «первично». Возможно, надо было, чтобы прошло почти столетие, чтобы это понять и оценить.
Отступление четвёртое
В августе 1968 года произошли два события, удивительным образом совпавшие и навсегда соединившие в моём представлении два далёких понятия — поэтику и политику
Было это в Ялте, во время летних каникул, из которых меня вырвала пухлая машинопись: Ефим Григорьевич Эткинд, работавший в ялтинском Доме творчества писателей, показал мне свою только что написанную книгу «Разговор о стихах» и сказал: «Прочти и скажи, что думаешь».
Первые впечатления запоминаются: оказалось, о самых сложных проблемах стиховедения можно говорить не просто увлекательно, но так, что этот разговор становится судьбой. Слово «судьба» тогда висело в воздухе. Там, в Ялте, двадцать первого августа мы включили «спидолу» и сквозь завывание глушилок различили знакомую интонацию Анатолия Максимовича Гольдберга: Би-Би-Си сообщало о советских танках в Чехословакии. «Ну вот, — сказал Ефим Григорьевич, — начинается судьба…»
Ефим Григорьевич Эткинд (1918–1999) не писал стихов — он их изучал и пропагандировал. Его «Разговор о стихах» вышедший первым изданием в 1970 году в издательстве «Детская литература» определил филологические и литературные судьбы многих тогдашних подростков — в том числе тех, кто стал писать для детей.
На его собственную долю выпала завидная и вдохновенная судьба. Им восхищались — его талантами и умом, обаянием и мужественностью, и необыкновенной работоспособностью, которую он сохранил до последних дней. Сколько помню, ни одно из его многочисленных выступлений, будь то перед студенческой, научной или писательской аудиторией, не проходило без аншлага: люди шли «на Эткинда», одно имя которого с годами стало синонимом высоких человеческих чувств и качеств — благородства, честности и гражданской отваги.
Выдающийся историк литературы, стиховед, теоретик и практик художественного перевода, он снискал любовь и уважение во всём мире — об этом свидетельствует и огромная библиография его научных и литературных трудов, изданных на многих европейских языках, и многочисленные почётные звания, которых он был удостоен во многих странах; подготовленные им книги и работы продолжают выходить и после его кончины.
В 1908 году Максимилиан Волошин, рецензируя только что вышедшую книгу переводов Фёдора Сологуба из Верлена, вспомнил слова Теофиля Готье: «Всё умирает вместе с человеком, но больше всего умирает его голос… Ничто не может дать представления о нём тем, кто забыл его». Волошин опровергает Готье: есть область искусства, пишет он, которая сохраняет «наиболее интимные, наиболее драгоценные оттенки голосов тех людей, которых уже нет. Это ритмическая речь — стих»[54].
Стихи были главным делом жизни Ефима Эткинда. Более полувека он изучал русские, французские, немецкие стихи (последние к тому же много и плодотворно переводил), исследовал их как текст поэзии и текст культуры, часто работая на узком пространстве между серьёзной наукой и популяризацией, где как раз и важны собственный голос, собственная интонация. Многочисленные ученики, друзья, последователи Эткинда вспоминают именно это — его неповторимый голос, его поразительное умение читать стихи и держать паузу.
В его жизни таких пауз не было. Даже на сломе судьбы, в 1974 году, когда пятидесятишестилетний профессор Герценовского института, в одночасье лишённый всех званий и степеней, был вынужден эмигрировать на Запад, последовавшая затем многолетняя разлука с родиной и родной культурой обернулась феноменальной по энергии и завоеваниям деятельностью — научной, организаторской, публицистической. Полтора десятилетия имя Эткинда было запрещено в Советском Союзе, книги его были изъяты из библиотек и по большей части уничтожены. Незадолго до внезапной кончины Е. Г. Эткинд обратился с открытым письмом к тем, кто был повинен в этом варварстве со справедливым требованием оплатить переиздание своих уничтоженных книг, многие из которых долгие годы были уникальными учебными пособиями для филологов — и остались таковыми по сей день.
Ответа, конечно, не последовало, но, к счастью, Ефим Григорьевич был заряжен великим оптимизмом, который позволял ему во все трудные времена находить собственные пути для творчества, адекватные высоким и благородным целям. Ибо основное, ради чего он жил, было здесь, на его родине: русская культура и круг друзей. Эти две страсти он пронёс через всю жизнь — и когда учился на романо-германском отделении Ленинградского университета, и когда ушёл добровольцем на войну, и когда «прорывался» сквозь советскую действительность 40-х — 60-х годов, и когда после фактической высылки оказался в Европе. Эткинду удалось построить свой, особый мост между европейской и русской культурами. Это не только научные статьи, книги, художественные переводы, выступления: Ефим Григорьевич умел сводить людей, воспитывать чувство необходимости друг в друге. Его имя стоит не только в почётном ряду тех, кого он переводил и чьё творчество исследовал, но и тех, кого он защищал и утверждал в нашей литературе.